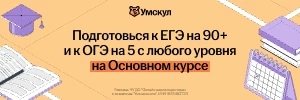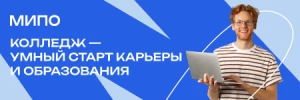На площадке Тульского педуниверситета происходит тихая революция в системе работы с подростковой девиантностью. Специалисты из 66 регионов России разрабатывают принципиально новую модель профилактики — не карательную, а восстановительную, где главный акцент смещается с наказания на создание жизненных перспектив.
Первый замминистра просвещения Александр Бугаев привел ключевой показатель: «Снижены доля несовершеннолетних, совершивших преступления, и уровень повторной преступности». Но за этими цифрами — более глубокая трансформация.
Новая философия заложена в Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года, которую лично курирует президент. Документ предполагает переход от разрозненных мер к созданию целостной экосистемы, где школа, комиссии по делам несовершеннолетних и наставники работают как единый механизм.
Особое внимание — подготовке кадров нового типа. С сентября началось обучение наставников для работы с трудными подростками. Это не просто волонтеры, а профессионалы, способные стать проводниками в мир социальных лифтов — от трудоустройства через студенческие отряды до поступления в вузы.
Участники совещания изучали и практический опыт Тульского педвуза, где создан Технопарк педагогических компетенций. Здесь будущих учителей учат не просто преподавать предмет, а распознавать кризисные ситуации и работать с подростками группы риска.
Лариса Фальковская, директор департамента Минпросвещения, акцентировала важность «прямого и оперативного взаимодействия» всех ведомств. На практике это означает, что сигнал о проблемном подростке должен мгновенно запускать комплексную помощь — от психолога до профориентатора.
Итоговая резолюция совещания станет не просто отчетным документом, а практическим конструктором для регионов. Его особенность — ориентация на конкретные кейсы и работающие методики, уже доказавшие эффективность в пилотных регионах.
Этот подход отражает общий тренд: государство постепенно отходит от репрессивной модели в работе с трудными подростками, делая ставку на раннюю профилактику и создание альтернативных социальных траекторий. Успех этой стратегии определит, сможет ли Россия к 2030 году создать по-настоящему эффективную систему защиты детства.